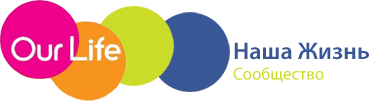
Эта дypа не просто залетела, она тройню ждет!
Анна работала в районном центре: в их деревне уже давно не было даже школы, работать негде, а ей нужно было поднимать сына. Отец Олежки ушел, когда мальчику года три исполнилось, поехал куда-то на заработки, да так и пропал. Аня металась, пытаясь прокормить себя и сына, работы и подработки сменяли одна другую, а когда пришло время Олежку в школу собирать, вся деревня деньгами помогала.
Анну уважали: себя без мужа блюла, вредных привычек не имела, а что бог красотой обделил – ну так что ж, с лица воду не пить, как говорится. Работала женщина в столовой школы, куда Олег учиться пошел. Она нарадоваться не могла, ведь при ней мальчик, под присмотром, всегда сыт, уроки в столовой и делает, в дальнем уголке. Если что, всегда найдется добрый учитель помочь.
Летом в школе был ремонт, делали его технический персонал и бригада «горячих южных парней». Руководил бригадой, держал в строгости мужчин и распоряжался всем Ильяс, мужик лет 45, серьезный, молчаливый – бирюк бирюком.
Олежка весело проводил время в деревне под присмотром старичков, Анна каждый день рано утром уезжала на работу, возвращалась иногда на самом последнем автобусе, затемно, чуть с ног не падая от усталости.
— Кого это Анька притащила, — встрепенулась деревенька, когда однажды на пороге дома неожиданно возник мужик с молотком. — Это ж надо, нерусский! Совсем баба сбрендила…
Как сошлись бирюк Ильяс и замотанная жизнью Анна, никто так и не понял. Только он починил ей крылечко, изгородь, проводку в доме поменял, печь заново переложил, тепличку поправил – многое переделал. Олежек от него не отходил, обучаясь мужицким премудростям ( и то сказать, раньше не знал, как молоток или топор в руки взять). Ильяс уехал, как только лето закончилось. А уже в октябре деревня поняла: Анна забеременела.
— Нагуляла, дура, — плевали вслед бабки, которые охотно возились с Олежкой. – Оголодала, что ли, без мужика, с любым согласна лечь, шaлaва? Кому она с хвостом нужна – то?
Если раньше мальчишка без стука в любой дом заходил, то теперь неприязнь к матери и на него перекинулась.
— Иди, иди, папашку своего нерусского ищи, приголубил тебя и бросил, а ты сопли на кулак теперь мотай, — кричали, когда он забегал спросить, не надо ли чего купить или воды принести. – Мамаше помогай, ей помощь ой как понадобиться.
В слякотную ноябрьскую пору в доме Анны все реже горел свет, Олега почти не было видно, а как Анна выглядит, старики забывать начали.
— Поди, в школе с утра до ночи, а может, подработку нашла, двоих выкормить – это не одного, — судачили меж собой бабки. Деды кивали, соглашаясь.
— А печь почему не топится, — все спрашивала самая суетливая, Прасковея. – Печку –то топить пора, замерзнут!
— Тебе что за дело, -шикали на нее, и Парашка умолкала.
К ней и постучался как-то зареванный Олег:
— Бабушка, не могу печку растопить, мне уже в школу надо, а она все не разгорается, дом выстынет, помогите, а?
— А мамка-то где?
— Так в больнице. Месяц уже. Я большой, я справляюсь, а она… Говорят, плохо ей очень.
— Так, милый, ну-ка за стол, завтракать, чай пить, и на автобус. А я с печкой пошла разбираться.
Растопила, дом вымыла, ужин сварила, а вернулся Олежек, уроки у него проверила и велела к ней перебираться:
— Не дело одному в девять лет в доме оставаться. Завтра маме гостинцев увезешь, узнаешь, не надо ли чего.
На следующий день у Прасковьи в доме собрался большой совет, почти все ходячие пришли решать, как с Олегом быть.
— Жить будет у меня, — решила Прасковья. — Ванька, на тебе дом – печь хоть раз день протапливать. Фиса, ты все равно постоянно в больницу ездишь, зайди в женское, узнай, чего там с Анькой. Ну, а остальным приданое готовить!
Анфиса вернулась важная, что гусыня.
— Ну, чего там? Токсикоз? Почки отказали? Сердце?
— Там все, бабоньки! Эта дура не просто залетела, а тройню ждет, так что и вставать боится! Аборт поздно, рожать – опасно, так что хоть святых выноси…
— А про мужика чего говорит?
— Да ничего, она ему и словечком не обмолвилась, что беременная. Семья у него, дети, на что ему Анька, русская, да еще и с сыном. Ну, была и была, теперь уж и думать забыл! Ревет, говорит, даже если выносит, в роддоме оставит, не поднять ей их.
— Чего удумала, — враз завопили старики. – Позор-то какой! Спятила она там, гормоны в башку ударили? Нет, согрешила – это одно, но еще один грех на себя вешать? Едем, дурь из нее вышибать надо.
— Так я ей так и сказала – всей деревней приедем, чтоб не позорила нас! Неужто не поднимем? Чай, не война, вырастим!
Аню прокесарили под Новый год: почки почти не работали, женщина отекала, не могла ничего есть, тахикардия вызывала ужас у повидавших многое акушеров.
— Сама бы не умерла, а дети – что ж, как получится…
Домой Аня вернулась худущая, бледная, кажется, ветер дунет – и унесет ее. Орущую Любку нес самый молодой дед – 70-летний Ванька. Верку доверили Прасковье, Надюшку – Фисе. Анна держала за руку Олега, повзрослевшего, серьезного, который все покрикивал на Любку:
— Чего орешь, скоро уж дома будем…
А дома Анну ждал сюрприз: пока она к выписке готовилась, за девчонок переживала, а потом – думала, как им жить и на что, старики в доме ремонт сделали, уговорили Фискиного сына воду завести, водонагреватель купили, даже стиральную машину, бывшую в употреблении, правда, но вполне рабочую, подключили. Ванька любимое свое дело вспомнил, три зыбки – качалки смастерил. Бабки приданого нашили – навязали.
— Чего как сиротина Анька наша будет, — опять судачили меж собой, хвастаясь мастерством.
Слабенькие, с кучей болячек, девчонки быстро выправлялись, догоняя доношенных сверстников, анна тоже приходила в себя, не зная, как и благодарить своих стариков.
В июне, когда девчонки валялись на одеялке под жарким солнцем под присмотром Фисы, а Анна полола грядки, в ограду зашел бирюк, постаревший, раздавшийся. Увидел одеяло на зеленой травке, Олежку, который тащил бабе Фисе воду, Анну, и сел на пень у калитки:
— Значит, правда?
Они вернулись в следующей школе ремонт делать, ну, решил проведать «подругу», а ему в школе так хвоста накрутили, что бросил бедную бабенку в положении, что со стыда сгореть был готов.
— Чего не сказала ничего, — допытывался, тетшкая на руках то одну,то другую, то третью дочку. Смешливые, черноглазые, крепенькие , они были уморительны в своей детской неловкости, колобками катаясь по одеялу, протягивая ручонке пожилой няньке.
— Как? Адреса нет, ничего нет. Да и зачем? Что изменилось бы? Так что забудь. Уходи. Это только мои дети…
— Увезет девчонок, у них не принято своих деток русским оставлять.
— Да на кой они ему, сбежит – и поминай, как звали.
— Не сбежит, сам останется, увидите.
— Ага, жди…
Счастливого конца с любовью до гроба не ждите: Ильяс, как и многие вахтовики, в каждой деревне по семье имел. Возле дома Анны его больше не видели. Но раз в два – три месяца женщина получала денежные переводы, иногда суммы были совсем мизерные, иногда довольно большие. Раз в полгода приходили посылки с детскими вещами — от бабушек из далекого Узбекистана.
Сейчас Вера, Надюшка и Люба уже студентку медицинского колледжа. Мать так и живет в своей деревеньке, ухаживая за оставшимися старичками. Олег женился, его детишек старики внучатами кличут. И мечтают до свадеб тройняшек дожить, чтоб и их деток понянчить.
— А вдруг и у них у кого тройня выродится, — смеется постаревшая Прасковья, толкая в бок локотком Фису.